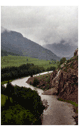|
|
||
|
|
Шерстова Л.И. Новые идентичности в Южной СибириФормирование новых идентичностей в современной Сибири обычно рассматривается в контексте кризиса общей «советской» идентичности. Действительно, учитывая ту роль, которую в распаде СССР сыграли аналогичные идеологические феномены, можно считать закономерным стремление к пониманию условий и факторов их формирования и проявлений. Однако вряд ли это возможно, исходя только из реалий последних десятилетий, без привлечения сравнительного материала периода, предшествовавшего внедрению «советской» идентичности. Между тем, исследования показывают, что уже в начале XX в. проявилась общая этнополитическая тенденция: выбор новой самоидентификации существенно зависел от степени этнической консолидации и наличия жесткой оппозиции «свои – чужие», определявших этнические границы конкретных этносов. Характерной чертой этнического состояния Южной Сибири являлась незаконченность этнических процессов в аборигенной среде. Здесь, за редким исключением, отсутствовали этносы с выраженной этнической идентичностью. Одним из показателей этнической аморфности, этнокультурной непрерывности населения верхнего и среднего Обь-Енисейского междуречья, явилось широкое бытование здесь квазиэтнонима «татары», применявшегося даже официально ко всей совокупности тюркоязычных групп с незавершенной этнической консолидацией. Появление термина «татары» в Сибири может увязываться, с одной стороны, с древнетюркской эпохой как началом его циркулирования в южносибирской среде, поскольку словом «татар» (множ. число от «тата», «тат») древние тюрки обозначали «зависимых людей» вне их этнической принадлежности. В своем истоке этот термин по смыслу был равнозначен позднейшим «кыштымы», «ясачные», фиксировавшим социальный статус его носителей. С другой стороны, русские, придя в Сибирь, воспользовались традиционным для них названием (тоже, видимо, имевшим «евразийские корни») всех говорящих по-тюркски народов России: закавказские татары (азербайджанцы), ногайские татары и др., и далее – черневые (бийские) татары, ачинские татары, кузнецкие татары, абаканские (минусинские) татары, мелесские татары, чулымские татары и т.п. Замечу: как только в Южной Сибири обозначились и укрепились к началу XX в. устойчивые очаги новых этногенезов, этот этноним исчез из употребления. В настоящее время ни один аборигенный этнос Саяно-Алтая официально этноним «татары» не принял. То, что он привился на северо-западной периферии тюрко-сибирского мира на нижней Томи, в Прииртышье, – связано с историческими причинами. Во-первых, с той ролью, которую в этногенезе части сибирских тюрков сыграл этнический компонент более консолидированных татар-мусульман, выходцев из Европейской России, – ссыльных, вольнопоселенцев, – сосредоточивавшихся в инородных сибирских управах с начала XIX в. Во-вторых, этому в немалой степени способствовала интенсивная целенаправленная деятельность казанских мулл-проповедников ислама в XIX в. и мусульманских партий начала XX в. среди сибирских татар. В октябре 1917 г. в Томске состоялся I Сибирский Областной мусульманский съезд. В докладе З.С. Гайсина религия, в данном случае ислам, названа «основным национальным признаком». Поэтому мусульмане России, в частности Сибири, несмотря на этнографические различия и разнообразие языков, могут мыслить себя как «особую нацию (выделено мной – Л.Ш.), определяемую двумя факторами – принадлежностью к исламу и мусульманским сознанием». Данный фактор довершил давно начавшийся среди татар Томского и Каинского уездов Томской губернии процесс, когда незавершенность собственного этногенеза, угроза русификации, недовольство «православной властью» и реформами заставили их воспринимать конфессиональное обособление как этническое. Тем более, что в обыденной жизни это был, пожалуй, единственный признак, выделявший, допустим, барабинцев и томских тюрков, из массы не только русского, но и остального, этническиаморфного тюркоязычного населения Сибири. Как бы то ни было, в начале XX в. этноним «татары» все больше стал подразумевать не столько непременную тюркоязычную принадлежность его носителей, сколько конфессиональность. Но вот в 1990-е гг. среди части северных алтайцев, шорцев, хакасов всплыл и даже стал предлагаться образованными слоями в качестве эндоэтнонима, казалось бы, забытый лингвоним «тадар». «Возвращение» к квазиэтнониму означало, что этноразделительные процессы, несмотря на наличие собственной государственности советского образца в форме национальных автономий, утюркоязычного массива Южной Сибири все еще не закончились. Оно, следовательно, отражало слабую укорененность введенных извне этнонимов: шорцы, кумандинцы, хакасы. Обращение же к досоветской этнолингвистической классификации народов должно было подчеркнуть наличие «своего имени» в прошлом. Учитывая социально-политические и идеологические коллизии советского общества конца XX в., южносибирские тюрки устремились к «воссоединению» с другими тюркскими этносами, сохранившими этноним «татары», что давало им возможность ощутить себя частью обширного и важного «тюркоязычного мира» и тем самым повысить собственный статус хотя бы в своих глазах. Но включение в общетюркский – «татарский» – мир автоматически влечет за собой смену религиозной идентичности, что в силу ряда объективных причин весьма маловероятно. Тем не менее, «пантюркистские» идеи в Южной Сибири сделали ее привлекательной не только для российских проповедников ислама, но и для некоторых структур Турции. Но важно, что исследование, проведенное в 2002 г. в некоторых учебных заведениях Хакасии, показало, что призывы М.И. Аджи – публициста и приверженца современной версии пантюркизма – о полном приоритете тюркской цивилизации, не нашли отклика в молодежной среде. Скорее всего, и ислам, и пантюркизм используются известной частью национальной интеллигенции для утверждения собственной элитарности. Появление современных общеупотребительных этнонимов в Южной Сибири было следствием различных процессов. Одни из них, например, алтай-кижи, телеуты, имели эндогенный характер. Другие были искусственно созданы в связи с научной классификацией аборигенов этого региона. Третьи возникли в результате административной политики государства, связанной с национально-территориальным районированием Сибири в 1920-е гг. Общеизвестно, что В.В. Радлов в научно-таксономических целях перенес названия двух родов-сеоков Северного Алтая (кубан и чалканыг) на близко им родственные, но этнически слабовыраженные группы аборигенов. Аналогично он поступил и с сеоком «шор», родовое имя которого было перенесено на все население Верхотомья и Горной Шории. Со временем эти родовые названия закрепились как этнонимы «кумандинцы», «челканцы», «шорцы», хотя для 1860-х гг., когда все это произошло, такое умозрительное выделение было явно произвольным, преждевременным. Но вкупе со сложившимся политико-административным устройством южносибирских аборигенов оно навязало этим искусственно избранным родам роль центров этнического притяжения консолидационных процессов, придавая названиям родов этнический смысл. В советский период искусственные этнонимы продолжали укрепляться в рамках проводимой национальной политики. Существование в 1925–1938 гг. Горно-Шорского района, казалось бы, создавало условия для формирования общешорского этнического самосознания и шорской идентичности. Искусственно сконструированный, хотя и подкрепленный одноименным национальным образованием этноним по преимуществу использовался для обозначения себя вовне. Внутри социума сохранялось неоднозначное к нему отношение. Более того, имя «шорцы» воспринималось часто как обидная кличка, говорящая о разрыве с традицией и собственной культурой. Поэтому неудивительно, что в конце XX в. начался усиленный поиск «своей» идентичности. В противовес этнониму «шорцы» стали возвращаться к названию «тадар», сакрализованному авторитетом старины. Перспективы создания новой идентичности путем мобилизации такого жеискусственного конструкта вряд ли реализуемы, если учесть степень русификации, маргинализации, усугубившуюся размытость этнического самосознания. Чаще все ограничивается конъюнктурными спекуляциями со стороны отдельных людей или «национально окрашенных групп, отнюдь не отражающих этнических и этнологических реалий. Создание в1922 г. Ойротской автономной области в Горном Алтае имело менее искусственный характер, нежели образование Горно-Шорского национального района. Помимо реализации политики национального строительства в Сибири, оно было логическим продолжением пробной реализации принципа политического оформления недавно сложившегося этноса в виде недолгого существования Алтайской Горной и Каракорумской Дум периода Гражданской войны. Само название автономии явилось следствием прямого влияния бурханизма, национальной религии алтай-кижи, с его ярко выраженными джунгарскими (ойратскими) реминисценциями. Однако географические рамки национальной автономии оказались гораздо шире этнической территории алтай-кижи (собственно алтайцев). В состав ойротии, кроме русского населения и южноалтайских этнических общностей (кроме алтай-кижи – теленгитов и телеутов), были включены северные алтайцы: челканцы, кумандинцы, тубалары, по всем этнопоказательным характеристикам вплоть до языка, этногенеза, исторических взаимоотношений с Россией более тяготевшие к Шории, Хакасии, Нижней Томи. Следовательно, горноалтайская автономия изначально оказалась достаточно рыхлым, гетерогенным образованием. Между тем, в работах современных ученых Республики Алтай появляются утверждения о том, что в XVII–XIX вв. Горный Алтай и Верхнее Приобье были заселены единым и фактически неизменным теленгитским этносом, и во всем близкими ему кумандинцами, тубаларами, челканцами (Г.П. Самаев). Такие утверждения вряд ли являются плодом исторического невежества. Скорее всего, это есть попытка традиционным способом, т.е. через обращение к «священному прошлому», обосновать выдвигаемую ныне идею моноэтничности аборигенов Алтая и в настоящем. Иначе говоря, речь идет всего лишь об искусственном конструкте – едином от века и ныне этносе, населяющим Горный Алтай. При этом игнорируетсябогатейшая иразнообразная этническая история народов Саяно-Алтая, Южной Сибири вообще. Появление подобных взглядовотражает, во-первых, стремление части интеллигенции алтай-кижи представить свой этнос как «правильный», базовый для остальных народов Алтая; втянуть их «в себя», как бы «уничтожив» объективно существующие этнические границы. Такие установки, во-вторых, направлены на закрепление одного из этнонимов, фигурирующего в названии республики, за всеми аборигенами Горного Алтая, что неизбежно сопряжено с проявлением пренебрежения к этнокультурному многообразию этого региона. Утверждая тезис извечного единства и неизменяемости алтайского этноса, некоторые представители алтайской интеллигенции легитимизируют образ «истинного алтайца» (т.е.алтай-кижи, противодействующегоассимиляции): «В алтайской среде не будут пользоваться уважением, а значит предлагаться на посты и должности те, кто относится к стереотипу «обрусевшие» – «туба» не говоря о «кайлык» (метисы), независимо от их личных качеств» (цит. по работе И.В. Октябрьской и др.). Такие постулаты, несмотря на апелляции к «единому в прошлом народу Алтая», не способствуют выработке общеалтайской идентичности. Наоборот – они провоцируют поиск другими алтайскими народами своей «особенной» идентичности, в чем им невольно помогло государство. В 1993 г. кумандинцы как особый этнос получили статус коренного малочисленного народа России, что сопровождалось включением их этнонима в официальный список российских народов. Следствие – широко развернувшаяся среди челканцев, тубаларов, теленгитов аналогичная кампания, начавшаяся в середине 1990-х гг. и увенчавшаяся успехом в 1999 г.: они тоже были признаны самостоятельными малочисленными коренными народами. Естественно, что «этническая реабилитация «спровоцировала определение «настоящей особости» и «действительной этнической идентичности. Пример – вышедшая в 2001 г. книга Л.М. Тукмачева-Соболекова «У истоков древнего Алтая», в которой дается «новая» история кумандинцев, якобы проживающих на Алтае в неизменном виде с III в. до н.э.Понятно, что с точки зрения исторической науки авторские фантазии несостоятельны, о чем мне пришлось в свое время писать, и в данном случае оформление, утверждениекумандинской идентичности основано на историческом мифотворчестве. Кстати, показателем того, что государство повлияло на всплеск последнего, являются документы правительства, определившие новый статус кумандинцев, помещенные в начале упомянутого сочинения. Еще интенсивнее мифотворчество при определении идентичности используется в Хакасии, что во многом объясняется сохранением внутри хакасского этноса шести этнографических групп, еще в середине XIX в. бывших этническими общностями, и отсутствием общего эндогенного этнонима. В ходе национального строительства в 1923 г. в бывшей Енисейской губернии был создан особый уезд, ставший позднее основой автономной области, а затем – республики, где по преимуществу было сосредоточено аборигенное население. В постановлении губернской комиссии по этому поводу указывалось: «Выделенному уезду присвоить название «Хакасский» по древнему названию народности, ныне его населяющей». Решение комиссиибазировалось на мнении национальной интеллигенции, ибо слово«хакас,«хягас» было одной из неточных огласовок древнекитайского наименования енисейских кыргызов – народа, долго обитавшего в бассейне верхнего Енисея, и игравшего важную роль в центральноазиатской июжносибирской истории с VI в. вплоть до 1703 г.,когда в ходе исторических коллизий большая его часть была уведена в Джунгарское ханство. После «увода» бывшие кыргызские данники-кыштымы, заполнив и освоив территорию бывших сюзеренов, составили ее аборигенное население. Искусственный характер этнонима «хакас» должен был, по мысли его внедрителей, стать «понятным и идейным лозунгом для культурно-национального возрождения». В 1960-е гг. появляются работы Л.Р. Кызласова, в которых,вопреки исторической реальности, обосновывалась историческая и этногенетическая преемственность междусовременными и древними «хакасами» (кыргызами), что стало буквально воплощением «идейного лозунга» 1920-х гг.. Однако понимание большинством хакасов первоначального значения их современного названия и сохранившаяся устная традиция о реальных кыргызах, с которыми местное население не связывало свой этногенез, не позволили этим построениям распространиться за пределы академической среды. Проблема же поиска «собственного имени» как основы идентичности осталась. В конце ХХ в. общественно-политическая ситуация ускорила этот процесс, наполнив его вполне конъюнктурным содержанием «суверенизации». Показательно, что ни одна из ныне существующих этнографических групп не претендует на распространение своего этнонима на остальные, что свидетельствует о продолжающейся в границах Республики Хакасии консолидациитюркоязычного населения, чему способствует и достаточная численностьэтнопопуляции. указанное обстоятельство активизирует создание новых конструктов,одним из которыхявляется предложенный В.Я. Бутанаевым этноним «хоорай (хонгорай)», якобы «исконный» для местного населения. Согласно его концепции, втечение XV–XVI вв. различные племенные группы, «оказавшиеся в долине Среднего Енисея, были объединены под эгидой кыргызов в единый этнополитический союз«Хонгор» или «Хонгорай»… Наследниками этого союза иявляется современное население. Показательно, что если ранее идеи Л.Р. Кызласова фактически не получили распространения, топредположение В.Я. Бутанаева, по его словам, нашло поддержку в народной среде: высказывались даже мнения «во имя памяти предков поднять на пъедестал почета наше историческое имя и переименовать Хакасию в «Хыргыс-Хоорай» или Хоорайскую республику». Данная концепция не выдерживает исторической критики, да создателям «новой этничности» она и не нужна, т.к. реальная история выносится за скобки национального мироощущения. Следует заметить, что конструирование новых идентичностей не является привилегией только национальной интеллигенции. Самая ранняя попытка их формирования у всех южносибирских социумов была предпринята «снизу» и вылилась в стремление активизировать сохранявшиеся роды (сеок) и родовое сознание. Уже в 1989 г. в Горном Алтае алтай-кижи рода майман провели первый родовой праздник своего сеока. Затем последовали праздники родов мундус, кыпчак, толоси др. Однако, по свидетельству очевидцев, «никто ясно не представлял, что делать, собравшись». Подсознательное стремление членов одного рода к единению, традиционноосмысляемое через родство, было следствием социальной растерянности отдельного человека в условиях краха привычных социокультурных и экономических связей советского общества. Уцелевшие вторично-родовые структуры создавали иллюзию возможной социальной защищенности путем коллективного выживания. Но уже к середине 1990-х гг. стало ясно, что реанимация родовой идентичности как способа и условия успешного совместного бытия вряд ли возможна. Надежда на родовую взаимопомощь не реализовывалась. Во время «праздников» не столькомобилизовалось общеродовое единство, сколько выяснялись генеалогии отдельных семей. При этом, чем древнее оказывалась родословная, темзначимее в глазах окружающих (иособенно в собственном мнении) становились ее носители, тем быстрее исчезала уверенность в возможность одинаковой сопричастности каждого члена со своим родом. Выборы родовых зайсанов, которые также пришлись на этот период, не решили проблему защиты ими интересов своих сородичей. Когда, например, встал вопрос о сохранности родовой горы одного из сеоков – мифологического центра родового сознания, – то все просьбы зайсана были проигнорированы властями из-за строительства на этом месте парка для маралов. Поэтому неудивительно, что интерес к родовым праздникам и другим внешним родовым институтам в ГорномАлтае стал понемногу затухать. На десятилетие позднее развернулась мобилизация родового сознания в соседней Республике Хакасии, вылившаяся в родовое движение и создание в 2001 г. «Ассоциации родов хакасского народа». Именно родовое движение рассматривается национальной интеллигенцией как одна из перспективных форм развития хакасского этноса. Оживление родовой идентичности и ее активация кроется не только в устойчивом сохранении южносибирскими народами деления на вторичные роды, многие из которых являются осколками древних этнических групп, стянувшихся в процессе этноконсолидации. В большинстве случаев мобилизация родового сознания объясняется и деятельностью представителей национальной интеллигенции, достаточно хорошо знакомой с работами ученых XIX – начала XX вв., которые не только зафиксировали родовое деление автохтонных социумов, но и определили родовое сознание как «предельную форму выражения идентичности». В том же направлении действовало российское законодательство XIX – начала XX вв., официально использовавшее термин «род» при характеристике административного устройства южносибирских аборигенов. Не надо, впрочем, забывать, что сеок южносибирских тюрков – это не «классический» род первобытной эпохи, базировавшийся на территориально-экономическом единстве в кровнородственном облике; это даже не ранний клан, ибо тюрко-сибирская родовая структура «вторична» и генетически восходит к прежним этносам или их уцелевшим фрагментам. В специфических условиях подвижных скотоводческих по преимуществу обществ весьма трудно было сохранить изначальное территориальное и экономическое единство и даже удержать целостность этнопопуляции. Этому препятствовали и ранняя социально-имущественная стратификация таких обществ, и постоянная их вовлеченность в череду центрально-азиатских событий, сопровождавшаяся включением в состав разных государственных образований, этническими перетасовками и дроблениями, войнами и миграциями. В такой ситуации главным «родосохраняющим фактором», ментальным центром притяжения людей становилось само название феномена, обозначаемого «родом», через причастность к которому удерживалась этническая память. Поэтому уже весьма рано хозяйственная и экономическая жизнь всех тюркских народов определялась семьей. Именно она была базовым элементом аборигенного общества, регулируя в том числе и брачные отношения и принимая на себя, таким образом, функции рода. В советский период сфера влияния рода постоянно суживалась, хотя сеок по прежнему оставался элементом этнического сознания и ментальности. Как бы то ни было, вопрос о реальной значимости рода или семьи в социально-экономической и социорегулирующей сферах был решен в пользу последней никак не позднее начала XX в. Исторические и этнокультурные события, пережитые Южной Сибирью за последние 400 лет, неизбежно сказались и на родовом делении здешних тюрков, внеся в него изрядную путаницу. В частности, поэтому попытки реанимации родового сознания сопровождаются выявлением все новых родов. Так, в настоящее время, по Б.Я. Бутанаеву, в Хакасии их насчитывается более 200, в то время как в конце XIX в. было 43 рода. Думается, что количественный рост «родов» связан с включением в родовую структуру больших семей «толь», что свидетельствует о размывании родового принципа строения социума и родового сознания. Следует также отметить, что мобилизация квазиродового сознания, которое все же сохраняет память о гетерогенном происхождении южносибирских народов, невольно будет провоцировать не только выявление «своих» и «чужих», но и отделение «настоящих» алтайцев, хакасов идр. от «ненастоящих». Так что перспектива мобилизации родовой идентичности объективно еще сильнее раздробляет этносы с их неустоявшимсянадродовым сознанием. К тому же, современный род тюрков Южной Сибири не может выступать в качестве действенной экономической и социальной поддержки, а именно этого от него ждут менее удачливые соплеменники. Аборигенный социум достаточно индивидуализирован, и «родовое» единение может носить ситуативный характер. Рассмотренные этническиеи дентичности не существуют в пространственномвакууме, они являются составными элементами или структурными уровнями широкого понятия региональной идентичности. Наличие или отсутствие таковой является важным фактором как внутренней, так и внешней безопасности. Подчеркну, что на всем протяжении Южной границы РФ имеются приграничные субъекты федерации, образованные на основе как административно-территориального, так и национально-территориального принципов. Как показали события последних лет, именно национальные республики (достаточно вспомнитьСеверный Кавказ) оказались наиболее подверженными и внутренней дестабилизации, и внешним воздействиям. Азиатская (сибирская) граница Россииесть продолжение нестабильного южного ее участка в Европе. Южносибирские же республики входят в приграничную зону, поэтому столь важно выяснение сути протекающих в них общественных процессов. Важно, что многие внедренные в массовый обиход искусственные этнонимы подвергаются критике со стороны их носителей как «ненастоящие», не соответствующие представлению о собственной идентичности. Источником формирования новой идентичности становится прошлое, трактуемое произвольно или фальсифицированно, т.к. именно оно по традиции менталитета определяет значимость этноса нетолько в былые, но и нынешние времена. Таким образом, возрождается, культивируется архаическая ментальность, «уводящая» реальный этнос в «Великое Прошлое», где и отыскивается «настоящее» имя, «подлинно своя» идентичность. Попутно переоцениваются отношения с Россией и русскими, сооружается образ «народа-жертвы», чему способствует рост «маргинально-русского шовинизма» и что отрицательно сказывается на русско-аборигенных отношениях» в целом. В процесс конструирования этничности на разных уровнях втянута не только национальная интеллигенция. В этом периодически оказывается задействованной и значительная масса населения и даже государственные структуры. Данная ситуация в конечном итоге отражает незаконченность этногенетических процессов у многих южносибирских этносов, ибо этничность формируется в этом случае не как эндогенный феномен по преимуществу, но как «многоликий конструкт». Поэтому в эволюционном плане тюркоязычные общества далеки от стабильности. В связи с этим любые действия извне могут восприниматься как угроза и придать идентичности неожиданную форму. Идея укрупнения регионов за счет объединения республик и областей, казалось бы, направленная на ускоренное сложение региональной идентичности, может усилить идентификацию алтайцев и хакасов со «своими» республиками, хотя первых в Республике Алтай – 31%, а вторых в Республике Хакасии – 11%, а строительство Катунской ГЭС или дороги на Канас вновь обострит на Алтае проблему сосуществования техногенной и традиционной культур в рамках одного государства. Все это неизбежно поднимет изоляционистские настроения значительной части алтайцев и, соответственно, ослабит интеграционный потенциал регионального сообщества. Южная Сибирь «больна» новыми идентичностями, и потому восприимчива к любым, даже нелепым с рациональной точки зрения, конструктам, и какими они станут – во многом и зависит от продуманности политики властных структур различного уровня. Литература
Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант 03–01–00359 а и опубликована в "Дневнике АШПИ" N 21 (июль 2005 г.)
|
|
|
|
||
|
© При использовании
материалов АШПИ ссылки на эти страницы обязательны. |